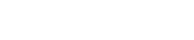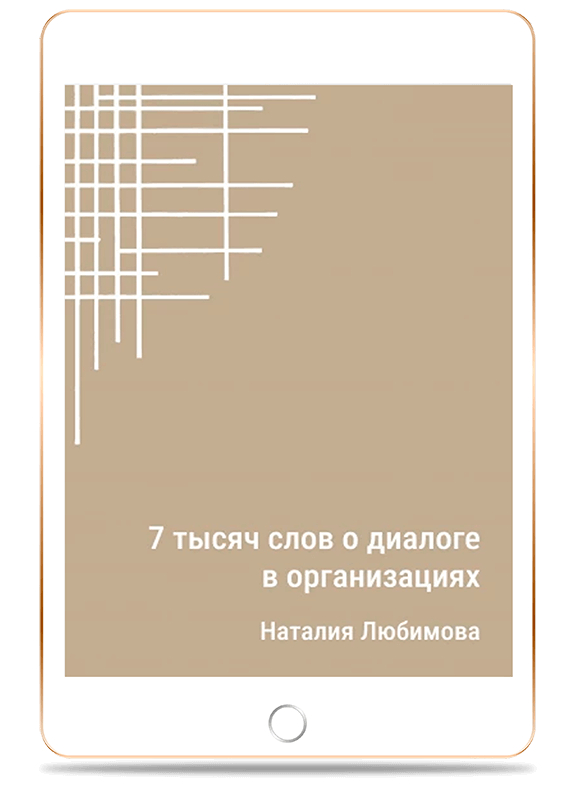Все непонятное часто обрастает мифами или опрощается. Коучинг стал словом – коробкой, куда каждый кладет свое представление, часто окрашенное негативными коннотациями в виде «марафонов желаний». Этот текст - теоретический кусок из курса, который я читала студентам - групповым психоаналитикам в университете в 2020 году. Мы изучали коучинг через деконструкцию, то есть разбирали на составные части, анализировали и пересобирали, чтобы понять, что же он такое, где его границы, как он работает, как он появился, и почему не мог не появиться?
Коучинг возник не в безвоздушном пространстве. Можно было начать с 5 века до нашей эры, когда Сократ открыл, а Платон описал майевтику - метафору родовспоможения, означающую разворачивание понятий через расспрашивание, но в основном фокусе у нас окажется 21 и 20 век, начиная со второй его четверти. Когда мы понимаем интеллектуальный ландшафт времени, мы получаем возможность увидеть абстракцию в контексте, нащупать фундамент и системные основания коучинга: философские и психологические, даже спортивные, простроить взаимосвязи.
Начнем с советской психологической школы, богатой исследованиями, например, механизмов рефлексии, как способа осмысления своего опыта, размышления о нем. В тридцатые годы изучается мышление и функция речи. Лев Выготский, предлагает идею, что речь служит организатором поведения. Цитирую: «… это позволяет обрести относительную свободу от ситуации и преобразовать импульсивные движения в планируемое, организованное поведение. Через речь человек моделирует, проговаривает ситуацию или желаемое, слышит себя, а другой слышит его и отражает, и в этом обмене может меняться восприятие ситуации и отношение к ней».
Еще одна важная идея Выготского - концепция зон ближайшего развития, описывающая, что развитие следует за обучением. Применительно к коучингу, коуч помогает простроить опоры в зоне ближайшего развития. Цель из дальней зоны, не подкрепленная опорами, вызывает тревогу и растерянность. Цель в актуальной же зоне развития может быть достигнута самостоятельно и поэтому вопросы из этой зоны вызовут ощущение топтания на месте. Надо найти ближайшую зону.
Речь и диалог - основной инструмент коучинга. О диалогах в то время говорили много. Возьму одного только Михаила Бахтина. Его концепция диалогизма выделяет иной тип коммуникации, опирающийся на отношения субъекта с субъектом, в противовес субъект-объектным. Он считал, через диалоги можно создать новое понимание ситуации, открывающее бесчисленное множество возможностей.
Послевоенное время – это созревание гуманистических подходов. Арбахам Маслоу предлагает гуманистическую теорию личности, выделяя стремление к самоактуализации как мотив, а в 1951 появляется человеко-центрированная концепция Карла Роджерса, произведшая революцию в психологическом консультировании, провозгласившая такие понятия как принятие, эмпатическое понимание, активное слушание, уникальность опыта.
В шестидесятых бурно растет движение за развитие человеческого потенциала, начавшееся в сороковые, родителями которого считаются американцы Майкл Мерфи и Дик Прайс. Они основывают институт интегрального развития человека – Эссален, опираясь на гуманистическую психологию и философские воззрения английского писателя Олдоса Хаксли. Эта идеология воспевает персональный рост и реализацию потенциала. Маслоу, кстати, тоже работал в Эссалене.
Врач-психиатр Милтон Эриксон в это же время разрабатывает технику мягкого транса и прогрессии, которые позже в восьмидесятых применит Стивен Гиллиген, назвав свой подход генеративным трансом. Продолжит его идеи и Роберт Дилтс, автор пирамиды нейрологических уровней, некой иерархии внутреннего устройства, применяемой в Эриксоновском коучинге. Инструмент так и называется - «пирамида Дилтса», хотя зачатки этой пирамиды уже есть в исследованиях Грегори Бейтсона – тоже значимой фигуры того времени, навещавшей Эссален. Он вел свои исследования в области социальной антропологии и кибернетической эпистемологии, повлиявшие на развитие нейролингвистического программирования в семидесятых годах. Сегодня продолжают идеи Бейтсона Питер Врица и Ян Ардуи, открывшие репаттернинг и «беседы на грани тишины».
В 1974 Тимоти Голви продвигает идеи спортивной психологии, максимальных достижений и ориентации на результат в концепции «Внутренней игры», которые продолжает его ученик - автогонщик Джон Уитмор в GROW-модели, на которую сейчас ориентируется как на коучинговый алгоритм некоторые школы. Голви назовет коучинг «искусством создания беседы, среды, облегчающей движение человека к желаемым целям». А Уитмор, приведет метафору желудя, содержащего потенциал стать дубом.
В это же время: семидесятые – восьмидесятые расцветают краткосрочные методы: ориентированная на решение краткосрочная терапия Стива де Шейзера и Инсу Ким Берга, краткосрочная стратегическая терапия и мотивационное консультирование Уильма Миллера, похожие и друга на друга и на современный коучинг как братья-близнецы.
В фокус внимания входит проблема достижения целей, например, Кеннот Шелдон создает концепцию конкордантных целей, основанных на внутренней мотивации, интересе к деятельности. Что такое конкордантная цель? Цель, находящаяся в согласии с личностью. Неконкордантные цели, по его мнению, не приносят удовлетворения. Альфрид Лэнге – ученик Виктора Франкла развивает экзистенциальный анализ и понятие экзистенциального - субъективного смысла. Психологию смысла, механизмы целеполагания, мотивации в наше время исследует Дмитрий Леонтьев из психологической династии Леонтьевых.
Следующая остановка - Томас Леонард, спортивный тренер с его ориентацией на успех. В 1989 он впервые называет коучинг «коучингом» и формализует его как услугу, расширяя значение за границы спорта, а в 1995 основывает первую коучинговую федерацию, сейчас продолжательницей его идей можно назвать Маршу Рейнолдс.
В 1998 первую программу обучения коучингу привозят в Россию. В 2000-е язык психологических модальностей начинает окрашивать коучинг в стране: приезжает Эриксоновский коучинг Мерилин Аткинсон, коучинг глубинных трансформаций Питера Врицы, генеративный, то есть порождающий изменения, коучинг Гиллигена и Дилтса - наследников НЛП, экзистенциальный коучинг Альфрида Лэнгле, системный командный коучинг Дэвида Клаттербака, невербальный коучинг Стюарта Хеллера, психодинамический коучинг.
Мы видим, как на коучинговом холсте проступает подготовленная основа: диалогичность, недирективность, временная прогрессия вместо регрессии, вера в возможности человека и уважение к его картине мира, опора на ресурсы и потенциал, побуждение к исследованию и поиску новых моделей, ориентация на решение и действие. Коучинг вбирает психологические идеи, дальше сепарируется, отграничивается от психологии, становясь самостоятельным методом, но снова развивается навстречу ей, параллельно с ней.
Как и все краткосрочные методы, коучинг - скольжение по поверхности, с минимальным углублением, которое дозволяет запрос. Он способен заходить на территорию мировоззрения и ценностей. Коучинг – не психология, но он психологичен и имеет психологический эффект. Это отдельный метод с четким контрактом, ясным алгоритмом и специфической сферой применения. Коучинг хорош для вопросов обучения и развития (недаром это слово так часто встречается в тексте) эффективности, карьеры, мотивации, планирования и проектирования, достижения значимых целей, решения задач, прояснения своей позиции, приоритетов, сопровождения изменений. Сфера применения коучинга и его определение зафиксированы в Большой российской энциклопедии.
У коучинговых федераций, например, ICF, есть этический кодекс и модель компетенций, они на нашей территории не действуют, как и коучинговые статусы, но по ним можно ориентироваться. В 2013 году по инициативе Ассоциации русскоязычных коучей началось формирование коучинга как профессии в России, в 2015 году первый проект профессионального стандарта передан в Министерство труда. Отдельный стандарт по коучингу не утвержден, но в апреле 2022 года утвержден профессиональный стандарт консультанта по управлению персоналом, куда «коуч» вошел официальным возможным наименованием этой профессии.
P.S. Что я вижу проблемой сейчас? Я наблюдаю, как в коучинг берутся некоучинговые запросы и происходит путанница. К сожалению, в России обучение коучингу продается лучше, чем он сам, и к настоящему времени еще не сложилась российская его модель и традиция. Коучи развиваются через идентификацию с американской ролевой моделью и теряют субъектность: начинают носить шейные платки и эксплуатировать «позитив». Коуч дружелюбен - это позиция, верно, но неослабная улыбка, потому что «надо улыбаться», вызывает в нашей культуре скорее недоверие, приводит к выгоранию достаточно быстро, а у собеседников от нее сводит скулы.
Дополнение: 16 мая 2025 года приказом Росстандарта утвержден новый классификатор ОК 016 - 2025, вступающий в силу с 1 января 2026 года, где коучу присвоен свой профессиональный код. Теперь коуч - официальная профессия группы специалистов по развитию.